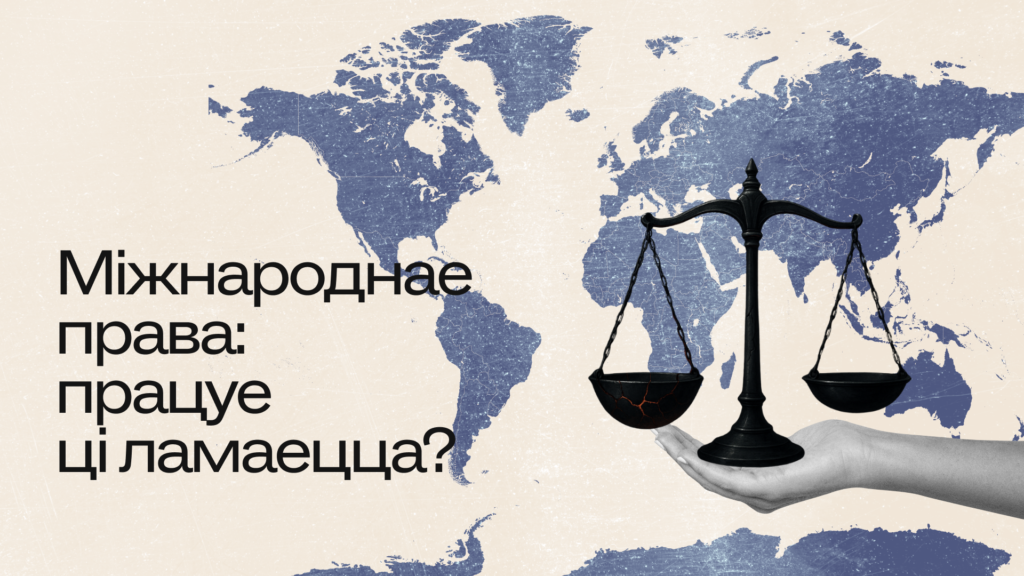С самого начала важно сказать о трех пересекающихся, но не тождественных понятиях: международный правопорядок (international legal order), порядок, основанный на правилах (rules-based order), и международный либеральный порядок (liberal international order). В отношении всех трех в последнее время часто употребляется слово “кризис”. Хотя границу этого “последнего времени” установить довольно трудно. Этот текст посвящен самому узкому из указанных понятий — международному правопорядку. Именно нормы современного международного права — это базовый индикатор значимости для сообщества идеологической рамки, основанной на либеральных ценностях, и логично следующей из этого необходимости жить по общим, предсказуемым правилам. Почему базовый? Потому что именно международное право отражает на уровне международного сообщества состояние главного залога успешного сосуществования людей – умения договариваться.
Никогда не было – и вот опять
“Если бы не было международных кризисов, многие из нас не были бы юристами-международниками” — пишет Джеймс Кроуфорд, один из столпов теории и практики современного международного права, судья Международного Суда ООН (2015–2021). Он отмечает, что на его желание стать юристом-международником повлиял Карибский кризис 1962 года.
В монографии 2019 года, посвященной международному праву во времена кризиса, речь идет о достаточно широком наборе: от иностранных наемников до иммунитетов высших должностных лиц государства и изменения климата. Еще раньше — например, в 2011 году в контексте кризиса международного правопорядка — звучали проблемы “нового терроризма”, меняющейся природы вооруженного конфликта, во многом вдохновленные терактом 11 сентября 2001 года в США.
В одной из последних тематических монографий о нарративах кризиса в международном праве, красной нитью во многих материалах звучит тема пандемии COVID. И даже в совсем свежей работе, посвященной переосмыслению международного правопорядка, которая вышла через два года после полномасштабного вторжения России в Украину, круг тем значительно шире, чем безопасность и проблема реформирования ООН (звучит последние лет тридцать).
Можно вспомнить еще Югославию, Руанду, создание и прекращение существования Лиги Наций и многое другое.
Первое, что можно сказать точно: время от времени происходят события, которые лишь подкручивают громкость в постоянно звучащих, как фоновое радио, разговорах о “кризисе международного правопорядка”.

Что такое кризис?
В разговоре о кризисе ключевое слово — разговор. Это, прежде всего, нарративы профессионалов и обывателей, политиков, международных функционеров и других субъектов, влияющих на общественное мнение и на содержание инфошума, который мы получаем каждый день. Ян Клабберс — один из топовых юристов-международников — пишет о том, что различные акторы часто используют нарратив кризиса, так как кризис предполагает необходимость существенных изменений, а один из основных топосов современной социальной и политической мысли заключается в том, что изменения — это хорошо. Кроме того, «нарратив кризиса предоставляет готовый повод для радикальных действий»— а значит, становится частью популизма.
Если говорить о сущностной стороне, авторы и редакторы монографии об изменении ценностей в международном правопорядке — немецкие профессоры Хейке Кригер и Андреа Лиз — отмечают, что международное право всегда находилось в противоречии между сохранением статус-кво и адаптацией к меняющемуся миру. В этом контексте, рассуждая о кризисе, они предлагают проводить различие между постепенными изменениями и глубокой трансформацией. Суть вопроса в том, меняются ли существенные характеристики международного права — в том числе, изменяются ли ценности, которые оно защищает, их юридическая и социальная значимость.
Как мы видим международное право?
Во-первых, каждый из нас может прожить только то, что видит при своей жизни, а всё остальное для нас — неосязаемая история из книг и документов. Более того, всё, что мы видим при своей жизни — мы видим из своего окна и часто не отдаем себе отчет в том, что из других окон видно другое. Мы живем во времена событий, на которые реагирует международное право и которые, в свою очередь, его развивают. Когда нам кажется, что реакция недостаточна, мы часто начинаем разговор о кризисе — особенно если мы не просто наблюдатели, а участники, и последствия касаются нас лично.
Во-вторых, огромное количество людей просто не воспринимает международное право как целое. Например, его часто ассоциируют с действиями Совета Безопасности ООН в момент разрешения конфликтов — просто потому, что эти ситуации больше обсуждаются как отклонение от нормы. Вряд ли многие из нас вспоминают о нём, когда садятся в самолет на международный рейс, получают посылку с AliExpress или подают в иностранный университет апостилированные документы.
В-третьих, мы всегда замечаем то, что произошло, и тестируем международный правопорядок на прочность, но почти никогда не задумываемся о том, что не произошло благодаря нормам международного права.
В-четвертых, эффективность международного права часто сводится к оценке его способности «наказать плохих». Это происходит из-за чрезмерной экстраполяции на него характеристик внутригосударственного права: люди считают международное право несостоятельным просто потому, что нельзя наказать виновных так, как они себе это представляют.
Как на самом деле работает международный правопорядок?
Специфика функционирования международного правопорядка вытекает из особенностей его основных субъектов.
Во-первых, это суверенные государства. Несмотря на стремительное технологическое развитие мира, которое повлияло и на развитие международного правопорядка в XXI веке, территориальный суверенитет до сих пор остается основой системы международных отношений. Да, его роль изменилась и сузилась из-за появления цифрового пространства. Однако кардинальных изменений нет и вряд ли они произойдут в ближайшем будущем. Диалектическая дуальность мира состоит в том, что он одновременно изменяется и остаётся прежним: человечество изобрело искусственный интеллект, но всё ещё живет в системе, основа которой заложена Вестфальским миром в XVII веке.
Во-вторых, его субъекты одновременно являются и правотворцами, и правоприменителями, и адресатами норм. Более того, из-за суверенитета они в большинстве случаев (хотя есть и исключения) могут отказаться от соблюдения норм, которые их не устраивают: не присоединяться к договорам, делать оговорки, (не)участвовать в организациях и т. д. В том числе и поэтому процесс создания норм часто бывает чрезвычайно сложным. Именно по этой причине всё, что существует в международном праве, — это результат консенсуса, достигнутого в отношении того, что на данный момент действительно необходимо его субъектам.
Иными словами, международный правопорядок в конкретный исторический момент существует ровно в той конструкции, которая сейчас максимально возможна. Если чего-то нет — об этом не могут или не считают нужным договариваться. И это, в том числе, политико-правовой баланс, которого просто не может не существовать в системе суверенных государств (см. во-первых).
Этой спецификой, в свою очередь, определяется максимально возможный инструментарий, в том числе и возможности привлечения к ответственности нарушителей. Это не хорошо и не плохо — таково положение вещей.

“Кризис” – это форма жизни
За последние несколько лет о кризисе международного правопорядка говорят в связи с рядом событий или их совокупностью:
- полномасштабным вторжением России в Украину;
- присутствием России как государства-агрессора в Совете Безопасности ООН;
- нежеланием США и стран Западной Европы вступать в прямое вооруженное противостояние с Россией;
- неисполнением Монголией своих обязательств по Римскому статуту в ходе визита Путина, на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС);
- санкциями, наложенными на МУС со стороны США;
- недостаточной реакцией ООН на нападение ХАМАС на Израиль;
- выдачей МУС ордеров на арест одновременно как на одного из лидеров ХАМАС, так на президента и бывшего министра обороны Израиля;
- политикой второго пришествия Трампа;
- бомбардировками Израилем и США территории Ирана и многое другое.
Но эти события не имеют единого универсального объяснения. Во-первых, часть из них – это нарушения, свидетельствующие о том, что для некоторых субъектов ценности, на которых построен международный правопорядок, незначимы. Это естественно для любой нормативной системы, хотя вес и значимость нарушителя в системе, где государства равны юридически, но не фактически, усугубляет ситуацию.
Во-вторых, для них есть целый перечень частичных объяснений:
- объективная ограниченность инструментария международных институций суверенитетом;
- обусловленность действующими международно-правовыми нормами, которые могут не отвечать ожиданиям тех, кто оценивает степень «кризиса»;
- отражение баланса политических сил и его изменений (что, в принципе, является естественным процессом).
Является ли всё это вызовами для международного правопорядка? Безусловно. Часто это требует поиска новых решений и, самое главное, активных действий со стороны его субъектов. Однако в большинстве случаев эти вызовы — естественная среда его существования. Проверка на прочность — неотъемлемое условие существования любой сложной системы и механизм её развития.
Одновременно можно с уверенностью утверждать, что ключевые ценности международного правопорядка по-прежнему значимы для большинства сообщества. Например, это видно по реакции международного сообщества в ответ на российскую агрессию против Украины — одну из самых масштабных атак на международный правопорядок за последнее время. Особенно показательно в этой ситуации, что, помимо использования имеющихся ресурсов и механизмов, государства готовы создавать новые — в том числе восполняющие существующие пробелы (речь о Специальном трибунале по агрессии). При этом, европейские государства готовы действовать без участия США, а, точнее, несмотря на очевидное нежелание США участвовать в этом процессе. Сам этот факт лишь подчёркивает описанный выше modus operandi международного правопорядка: если субъекты действительно считают что-то необходимым, они ищут — и, что самое важное, находят — как политические, так и юридические возможности, создавая новые нормы и тем самым развивая международное право.
Можем ли мы как-то влиять?
Тот факт, что основными субъектами системы международного правопорядка являются государства, не означает, что на него не могут влиять другие субъекты. Важно помнить, что государство — это абстрактное понятие, и архитектура международного правопорядка, включая и правовые нормы, на которых он основан, зависит от действий конкретных людей, в тот или иной период представляющих конкретные государства. Следовательно, и от процессов, происходящих внутри этих государств.
В конце концов, любая нормативная и политическая система складывается и развивается под влиянием социальных процессов и ожиданий, которые формируют целый ряд субъектов. Формулу успеха такого влияния Хейке Кригер и Андреа Лиз справедливо сводят к следующему: “Ключевой вопрос в том, какая сторона захочет вкладывать средства и время в подрыв или защиту норм и ценностей, которые лежат в их основе”. Это работает на любом уровне, включая уровень каждого из нас.