Мнение Ольги Лойко и Павла Данейко
В тексте обсуждается состояние белорусской экономики и её перспективы в ближайшие годы. Эксперты рассуждают о том, почему рост ВВП застопорился на уровне 1%, как выдавливание интеллектуальной элиты толкает страну в тупик, чем чревата ставка на дешёвую рабочую силу и почему без науки и образования у Беларуси нет будущего.
Ниже представлена текстовая версия стрима о настоящем и будущем экономики Беларуси в рамках совместного цикла трансляций Банка идей и Еврорадио «Беларусь 2030». В беседе участвуют директор BEROC Павел Данейко (далее — П.Д.) и журналистка Ольга Лойко (далее — О.Л.). Полная версия стрима ниже.
1% роста — путь в тупик?
О.Л.: Всем привет! «Банк идей» совместно с «Еврорадио» продолжает цикл «Беларусь-2030». Сегодня говорим об экономике и её перспективах. Наш гость — директор BEROC Павел Данейко. Экономика Беларуси замедляется, проседает, но не рушится. Вопрос только в том, надолго ли хватит этой «устойчивости». Какие у нас сценарии: плавное замедление, резкое обрушение или качественный переход?
П.Д.: Давайте смотреть на факты. В последние годы белорусская экономика росла примерно на 1% в год.
Для обычного человека это означает: «я живу так же, как вчера». Кризиса вроде бы нет. Но если сравнивать себя со странами «большой семёрки», то каждый год мы отстаём всё сильнее. Это не так заметно день ото дня, но через 10–15 лет мы вдруг обнаруживаем, что живём гораздо хуже, чем могли бы.
Поэтому я не прогнозирую резкого обрушения экономики. Вопрос в том, куда мы будем развиваться дальше. Мир изменился, и мы уже живём не в индустриальном обществе, а в информационном. В индустриальной эпохе нанимали «среднего работника». В новой системе работодателю нужен «гений». Билл Гейтс ездил по университетам и искал лучших программистов — директор тракторного завода никогда так не делал.
Страны, куда переезжают программисты и PhD-исследователи, будут богатыми. Те, кто теряют этих людей, — обречены на застой. Сегодня промышленное производство даёт лишь 13% ВВП США. Основная добавленная стоимость создаётся в IT, исследованиях, инновациях.
О.Л.:Собственно, это то, что мы слышим от айтишников: главный плюс релокации — доступ к лучшим трудовым ресурсам. Это прямое условие успеха.
П.Д.: Да. Беларусь идёт противоположным путём. Мы выдавливаем интеллектуальную элиту. А без неё мы остаёмся в парадигме «как сделать трактор дешевле». Но программисты как раз создают технологии, которые позволяют обходиться без людей на производстве. Автоматизация неизбежна.
И вот здесь главный риск: мы давно готовили себе этот тупик. На науку Беларусь тратит меньше 0,5% ВВП. Но именно интеллектуальный потенциал определяет будущее.
Сегодня нам кажется: «ну ладно, 1% роста — это не так страшно, будем жить примерно как сейчас». Но вопрос в другом: можно ли законсервировать такую стабильность надолго, или это всё же путь к деградации и отставанию?
Туризм, IT и «тупиковые ниши»?
О.Л.: Правительство продолжает говорить о «точках роста» и называет среди них услуги: туризм, IT.
П.Д.: Туризм — вещь для Беларуси сложная. Мы всё же не Грузия. С IT – другая история. Там профессионалы могут получать хорошие деньги, но как только они достигают уровня выше среднего, они уезжают и работают на глобальных игроков. После сворачивания Парка высоких технологий инфраструктура вернулась к «допарковому» состоянию. Расти сектор будет, но это уже не то, что мы могли бы иметь, если бы сохранили систему, созданную до 2020 года.
Оставшиеся айтишники говорят: «не всё так плохо, есть крупные российские заказчики, на российском рынке появилась ниша». Но это иллюзия. Российский рынок сам по себе небольшой, и именно это всегда было проблемой российских IT-компаний. Успех белорусских разработчиков объяснялся тем, что они изначально ориентировались на США и Европу. А работа на Россию — это тупиковая ветвь.
О.Л.: Сегодня у бизнеса в Беларуси фактически два пути. Первый — глобальный: эмиграция, релокация, попытка построить международный бизнес. Второй — компрадорский: работать на Россию и внутри Беларуси, обслуживать российские компании.
Бизнес всегда находит щели, страна возвращается в 90-е
П.Д.: В моменте второй путь кажется выгоднее: такие бизнесы кредитуются в России, ведут российские товары в Беларусь и чувствуют себя увереннее. Но это краткосрочная история.
Бизнес — это бесконечный поиск возможностей. Когда двери захлопываются, находятся другие двери или щели в дверях. Сегодня очевидно: российское направление остаётся актуальным и прибыльным, поэтому туда сосредоточено внимание.
Несмотря на санкции, белорусская экономика адаптировалась. Я постоянно повторяю, что 50% ВВП Беларуси сегодня создаёт частный сектор. Иными словами, именно частный сектор является локомотивом экономики.
Если политические условия изменятся и откроются двери на Запад, наши предприниматели быстро перестроятся и найдут новые потоки. Но пока ситуация тревожная: мы вернулись в 1990-е. Силовые структуры снова «доят» бизнес, вернулась коррупция на среднем уровне — то, с чем Лукашенко когда-то боролся и что, по его словам, победил.
Так продолжаться долго не может. Изменения будут неизбежны, и тогда бизнес найдёт новые комбинации, чтобы встроиться в новое пространство.

«Скрытые чемпионы» исчезли, а новые не рождаются
О.Л.: Санкции делают экспорт высокотехнологичных приборов — дозиметров и прочего — почти невозможным. Но Нацбанк объявил, что у нас есть «новые чемпионы». Мол, мелкий бизнес, которому дадут кредиты, вырастет и станет новыми лидерами. Это реально?
П.Д.: Честно говоря, я даже не понимаю, что они называют чемпионами. Настоящий скрытый чемпион — это компания, которая доминирует в нише на мировом рынке. Это стратегия, это продукт, который выигрывает конкуренцию. И вырастить его только с помощью кредитов – невозможно.
У скрытых чемпионов были трудности даже в мирное время, они преодолевали барьеры, связанные с «белорусским происхождением». Сейчас говорить о выходе на мировой рынок и вовсе невозможно.
Наверное, Нацбанк имеет в виду, что такие компании могут найти нишу на российском или внутреннем рынке. Если получится — дай Бог. Я всегда за бизнес. Но настоящих чемпионов, глобальных, в таких условиях не вырастить.
Хай-тек-направления можно будет попытаться восстановить, если изменится политическая ситуация. Но пока мы их теряем: даже те, кто перебрался за границу, несут потери.
Почему «шарашки» больше не работают
О.Л.: Но ведь мы ещё не вернулись к советскому опыту с «шарашками», где проблему оттока мозгов решали железным занавесом?
П.Д.: В том-то и дело, что этот опыт сегодня неприменим. В шарашках люди сидели и ковырялись в железках, выполняя конкретный заказ: «сделать атомную бомбу» или «создать ракету». Они знали задачу.
А в IT всё иначе. Если ты разговариваешь с создателями ярких продуктов, они часто говорят: «Мы вначале думали о другом». То есть результат рождается не по плану, а в процессе.
Создать «шарашку для айтишников» невозможно. У них нет готового задания, они сами должны придумать, что делать. А если техническое задание есть, значит, это уже вчерашний день. Поэтому идея «цифрового концлагеря» для айтишников — это путь в никуда. В лучшем случае они создадут систему для воспроизводства этого концлагеря.
Будущее определяется программистами и учёными
П.Д.: Будущее мировой экономики зависит от того, куда едут программисты и PhD-исследователи. В США они едут, из Китая — уезжают. Китай, несмотря на успехи в производстве, рискует остаться во «вчерашнем дне». Машины производить — это прошлое, ценность – в знаниях и технологиях.
О.Л.: Но для Беларуси это звучит как приговор, хотя бы на какое-то время. Даже в самые либеральные периоды мы не смогли встроить людей с PhD в систему.
П.Д.: Всё просто. Экономические реформы для Беларуси — это не приватизация и не разовые шоки. Это системная работа на 12–15 лет. Нужно соединить науку и образование, вернуть беларусов с научными степенями, инвестировать в подготовку специалистов здесь.
Образование и пенсии — две стратегические задачи
О.Л.: Получается, что для Беларуси реформы — это не шоковые меры, а долгий процесс?
П.Д.: Именно так. Экономические реформы у нас часто ассоциируются с приватизацией или какими-то быстрыми шагами. Но на самом деле это системная работа на 12–15 лет. Две ключевые задачи: построить современную систему образования и науки и параллельно создать устойчивую пенсионную систему.
Если мы хотим, чтобы беларусы были конкурентоспособными на мировом рынке, нужно соединить университеты с НИИ, вернуть беларусов с PhD из-за границы и инвестировать в подготовку новых специалистов здесь. Беларусов с докторскими степенями в мире много — и это огромный ресурс, который мы не используем.
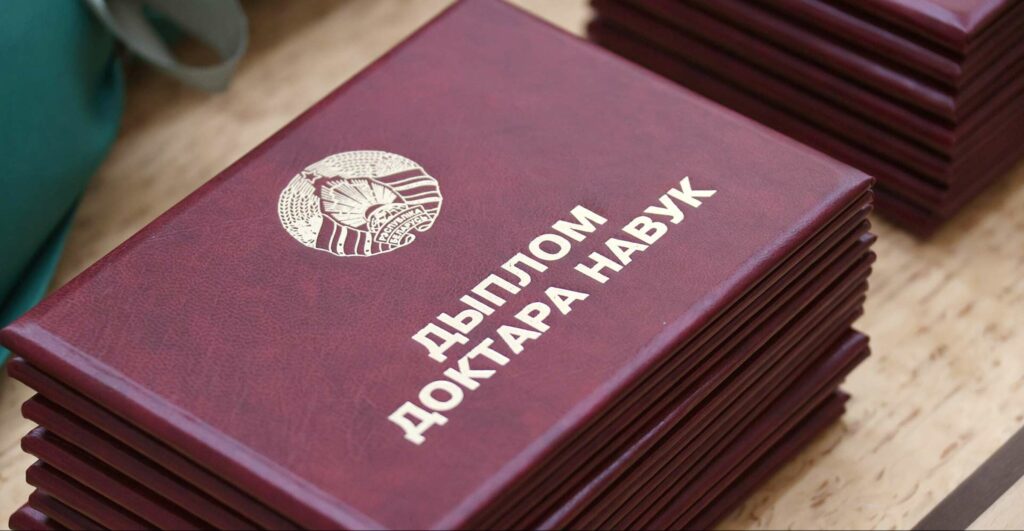
Машинное производство: ставка на вчерашний день
О.Л.: Ещё один блок — промышленность. На неё всё ещё делается ставка: строятся новые заводы холодильников, велосипедов. Это стратегия удвоения того, что уже есть. Насколько наше машинное производство конкурентоспособно?
П.Д.: Важно понимать: конкурентоспособность промышленности в прошлом базировалась на дешёвой рабочей силе. Сегодня этот ресурс теряет значение. Производства становятся безлюдными.
Я приведу пример. На «Белвесте» самыми высокооплачиваемыми сотрудники были те, кто раскраивал кожу — каждая шкура разная, и нужно обладать большим мастерством. Но затем сделали программное обеспечение, которое решило эту задачу. И люди оказались не нужны. Мы идём в мир безлюдных производств. Именно поэтому Трамп вводит тарифы: он хочет стимулировать перенос производств в США. Поэтому делать ставку на то, что в Беларуси будут дешёвые рабочие, которые «будут много работать» — это путь в никуда.
О.Л.: Но Лукашенко всё время повторяет: «Если будете работать в пять раз больше, производительность труда вырастет, и мы заживём».
П.Д.: Это манипуляция. Производительность труда — это выработка на одного человека. Если на заводе остаётся один человек, а весь процесс автоматизирован, производительность у него будет огромная. Но это не потому, что он «работает в пять раз больше».
О.Л.: А как же идея привезти 150 тысяч пакистанцев?
П.Д.: Мы идём к миру, где дешевая рабочая сила перестаёт быть преимуществом. Бедные страны, которые жили за счёт дешёвого труда, теряют этот ресурс. Раньше ты мог что-то делать в Китае и везти продавать в США. А теперь то же самое производство можно автоматизировать в США — и китайская продукция становится дороже, потому что у неё появляются транспортные издержки.
Мы на пороге ещё бОльшего разрыва: богатые страны будут наращивать технологии и уходить вперёд, а бедные рискуют остаться без шансов на догоняющее развитие.
Искусственный интеллект и новый разлом общества
П.Д.: Но это только часть картины. В «лидерском мире» тоже идёт перелом. Искусственный интеллект радикально меняет производительность труда. И общество начинает делиться на две группы. Первая — это те, кто работает, даже если им не платят, потому что им любопытно. Вторая — те, кто не работает, потому что им и так платят. Каким будет этот мир — предсказать невозможно.
Образование, патриотизм и слом системы
О.Л.: Мы с тобой из одной «секты» — верим в бизнес, в креатив, в мысль. Поэтому меня больше всего пугает то, что школа у нас превращается в фабрику «патриотов», где пытаются поставить на поток массовое воспроизводство правильных граждан.
П.Д.: Из этого ничего не получится. Когда есть интернет и родители, повторить советский опыт уже невозможно. Хотя это, конечно, неприятно.
В авторитарных системах всегда так: формируется «человек без прошлого», без культурного контекста, просто единица, которой можно управлять.
Советская власть уничтожала память о прошлом. Тебя «как бы не было». Сейчас делается то же самое. Но я не думаю, что эта система устойчива. Она воспроизводит кризисы 90-х.
Прогноз: Беларусь-2030
О.Л.: Меня утешает только одно: сейчас клиповый темп – процессы, которые раньше занимали десятилетия, сейчас происходят быстрее. Если резюмировать: где Беларусь окажется к 2030 году?
П.Д.: Я надеюсь на перемены в ближайшее время. Сегодня мы имеем странную ситуацию: во главе структур, которые должны определять экономическое развитие, стоят профессиональные и умные люди. Если бы я был президентом, я бы их тоже назначил.
О.Л.: Но это выглядит как система, где одна лишняя деталь тормозит весь механизм.
П.Д.: Именно. Силовой блок находится в своём «загуле», и он блокирует всё остальное. Если этот «загул» свернётся, если начнут заниматься экономикой и возобновят диалог о развитии, многое можно будет исправить. Но ключевое — вернуть доверие людей. Вспомним Парк высоких технологий: именно благодаря ему предприниматели начали строить долгосрочные планы вокруг страны. Сегодня это доверие разрушено. Восстановить его можно, но потребуется 3–5 лет.
О.Л.: Ну что ж, будем надеяться, что в 2030 году мы найдём себя в более комфортной среде.
П.Д.: К 2031 году точно!
